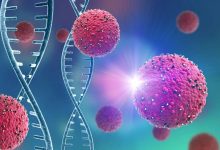Как таз изменил ход истории: генетический прорыв в понимании эволюции прямохождения
Таз — невзрачная, но чрезвычайно важная костная структура — давно считается одной из главных загадок эволюции человека. Если бы кто-то попытался спроектировать существо, способное ходить прямо, он вряд ли выбрал бы таз в качестве отправной точки. Тем не менее, именно он стал краеугольным камнем, позволившим нашим предкам отказаться от передвижения на четырех конечностях и встать на две ноги. В отличие от других приматов, чей таз оптимизирован для лазания по деревьям, человеческий таз претерпел кардинальную перестройку, превратившись в прочную, чашеобразную опору, способную выдерживать вес тела, обеспечивать равновесие и поддерживать внутренние органы. Однако как именно природа перепроектировала эту структуру — вопрос, остававшийся без ответа на протяжении десятилетий. Теперь, благодаря новому масштабному исследованию, опубликованному в журнале Nature, ученые впервые раскрыли генетические и эмбриологические механизмы, лежащие в основе этой революционной трансформации.
Работа, возглавленная профессором Теренсом Капеллини из Гарвардского университета и ведущим автором Гаяни Сеневиратне, представляет собой уникальный синтез палеонтологии, генетики, эмбриологии и биоинформатики. Исследователи собрали и проанализировали 128 образцов эмбриональных тканей человека и других приматов — от шимпанзе и горилл до более отдаленных видов, включая старинные коллекции, хранящиеся в музеях США и Европы. Некоторые из этих образцов были собраны столетия назад и до сих пор сохранили свою научную ценность. Благодаря современным методам, таким как компьютерная томография, гистологический анализ и пространственная транскриптомика, команда смогла проследить развитие таза на клеточном и молекулярном уровнях, выявив ключевые этапы, через которые прошла эта костная структура в ходе человеческой эволюции.
Одним из самых поразительных открытий стало то, что формирование таза у человека происходит не постепенно, как предполагалось ранее, а через радикальный поворот зоны роста. У большинства приматов, включая наших ближайших родственников, подвздошные кости растут вдоль вертикальной оси — от головы к хвосту, — что придает им высокую, узкую и плоскую форму, идеально подходящую для крепления мышц, необходимых при лазании.

У человека же, примерно на 53-й день эмбрионального развития, пластина роста подвздошной кости совершает поворот на 90 градусов — она переориентируется из переднезаднего направления в боковое. Этот поворот приводит к тому, что кость перестает удлиняться вверх и начинает расширяться в стороны, формируя характерную чашеобразную структуру таза. Это не просто укорочение или утолщение — это буквально переворот в механизме роста, который, по словам Капеллини, «не имеет аналогов у других приматов».
Но на этом изменения не заканчиваются. Второй ключевой этап эволюции таза связан с изменением сроков окостенения — процесса, при котором хрящ превращается в кость. У большинства костей этот процесс начинается в центре диафиза и распространяется наружу. Однако у человеческой подвздошной кости минерализация начинается в задней части, у крестца, и распространяется радиально, оставляя внутреннюю часть кости хрящевой на протяжении дополнительных 16 недель. Эта задержка окостенения позволяет кости сохранять пластичность и продолжать расти, принимая окончательную форму, необходимую для двуногой ходьбы. Именно благодаря этому механизму таз к 10-й неделе эмбрионального развития уже приобретает чашеобразную геометрию, предваряя будущие функции прямохождения.
Чтобы понять, какие молекулярные «переключатели» стоят за этими изменениями, исследователи применили методы мультиомики и пространственной транскриптомики — технологии, позволяющие анализировать активность генов в отдельных клетках и визуализировать их пространственное распределение в тканях. В результате была выявлена группа из более чем 300 генов, участвующих в формировании таза, но особое внимание привлекли три из них: SOX9, PTH1R и RUNX2. SOX9 и PTH1R оказались ключевыми регуляторами поворота пластины роста, а RUNX2 — главным контролером задержки окостенения. Подтверждением их важности служат генетические заболевания: мутации в SOX9 вызывают кампомелическую дисплазию, при которой таз становится аномально узким и не может выполнять свои функции; аналогичные нарушения наблюдаются при мутациях в PTH1R. Эти клинические данные подчеркивают, насколько тонко отрегулирован этот процесс и как малейшее отклонение может привести к серьезным анатомическим дефектам.
Авторы исследования полагают, что первое изменение — поворот пластины роста — произошло примерно 5–8 миллионов лет назад, в момент, когда наши предки начали отделяться от линии африканских человекообразных обезьян. Это могло быть ответом на переход к наземному образу жизни и первым шагам в сторону прямохождения. Второе изменение — задержка окостенения — вероятно, возникло позже, в последние 2 миллиона лет, в ответ на другое эволюционное давление: рост мозга. Это привело к так называемой «акушерской дилемме» — противоречию между необходимостью узкого таза для эффективной ходьбы и широкого — чтобы пропустить крупную голову новорожденного. Задержка окостенения позволила тазу оставаться гибким и адаптивным в процессе роста, обеспечивая компромисс между этими двумя требованиями.
Палеонтологические данные подтверждают эту гипотезу. Самый древний известный таз, принадлежащий Ardipithecus ramidus возрастом 4,4 миллиона лет, демонстрирует промежуточные черты: он уже шире, чем у современных обезьян, но еще не достигает формы человеческого таза. У знаменитой «Люси» (Australopithecus afarensis), жившей 3,2 миллиона лет назад, таз уже явно адаптирован к двуногому передвижению — с расширенными бедренными лопатками и мышечными креплениями, характерными для прямоходящих существ. Эти ископаемые свидетельствуют о постепенном, но последовательном изменении таза, соответствующем генетическим сдвигам, выявленным в новом исследовании.

Изображение: MAURICIO ANTON/SCIENCE SOURCE
Теренс Капеллини подчеркивает, что эти открытия требуют пересмотра фундаментальных представлений о развитии человека. До сих пор многие исследователи использовали модели роста, основанные на шимпанзе, чтобы понять, как развивался человеческий эмбрион. Однако теперь ясно, что у человека и других гоминидов действуют совершенно иные механизмы. «Таз у всех ископаемых гоминидов развивался иначе, чем у любых других приматов, — говорит Капеллини. — Это не просто модификация старой модели, это новый путь, новая биология».
Таким образом, таз оказывается не просто анатомической особенностью, а живым свидетельством эволюционной изобретательности. Он — не просто костная чаша, а сложный продукт миллиона лет естественного отбора, генетических мутаций и эмбриологических перестроек. Исследование показывает, что эволюция не всегда действует через мелкие, постепенные изменения: иногда она совершает резкие, качественные скачки, перепрограммируя сам процесс развития. И именно такие скачки сделали возможным появление человека — существа, способного не только ходить по земле, но и задавать вопросы о том, как и почему оно это делает.